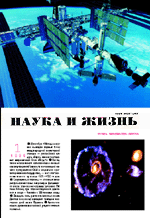ТРУДНЫЕ ГОДЫ
Ек. БАЕВА
"Какой бы ни была наша история, изменить ее уже нельзя - приходится брать какая есть... Для каждого человека история его страны - в какой-то мере и его личная история: он вписан в нее". Так говорил академик Александр Александрович Баев, рассказывая о своей жизни. Так говорил человек, проведший в заключении и ссылке 17 долгих и самых активных лет жизни. Вернувшись в науку уже в зрелом возрасте, он, по сути, начал все сначала, но сумел оставить заметный след в науке, которой отдал все свои силы. Сотрудники Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, друзья и сподвижники А. А. Баева воздвигли прекрасный памятник своему учителю и коллеге, собрав в книге (она так и называется "Академик Александр Александрович Баев") воспоминания самого Баева, его жены, сына и людей, трудившихся с ним рядом. Но поистине жемчужинами этой книги, к сожалению, вышедшей очень маленьким тиражом - 1500 экземпляров, можно назвать собранные воедино переписку Баева с академиком Энгельгардтом и заметки разных лет, где ученый размышляет о проблемах науки, жизни, нравственности и ответственности человека за свои поступки. "Вопрос о моральной ответственности в более острой форме возник позже, - пишет А. А. Баев, - в тюремной келье Соловецкого монастыря после моего ареста в 1937 году. И там, за решеткой был найден ответ. Я пришел к мысли, что мое поведение в 30-е годы по-человечески было понятно, но в моральном смысле непростительно. Я тюрьму заслужил, но вовсе не потому, что будто бы принадлежал к организации молодых бухаринцев, за что меня судила Военная коллегия Верховного суда в Лефортове в 1937 году, а за нарушение законов морали - примирение со злом".
Огромное счастье выпало на долю А. А. Баева, что его судьба пересеклась с линией жизни Владимира Александровича Энгельгардта. С того дня, когда он пришел к Владимиру Александровичу аспирантом, потом в лабораторию Института биохимии в Москве и, наконец, через 17 лет вернувшись в науку (благодаря неустанным стараниям Владимира Александровича), Александр Александрович не имел, да и не хотел иметь права на поблажку; он весь свой ум, волю и силы употребил служению науке, чтобы Энгельгардту не было досадно и стыдно за него и не возникало ощущение, что он ошибся в нем.
Владимир Александрович Энгельгардт не тащил за руки своих учеников, полагаясь полностью на их природные данные, работоспособность и самолюбие (в хорошем смысле этого слова); его помощь всегда была тактичной - он радовался успехам и не упрекал за ошибки. Владимир Александрович был эталоном благородства, интеллигентности, доброжелательности, глубокой культуры, душевной и внешней красоты. Это был тот тип человека, при контакте с которым каждый, как мне кажется, хотел в чем-нибудь походить на него. И я уверена, что для Александра Александровича с первых дней его знакомства с Владимиром Александровичем Энгельгардтом не было лучшего примера для подражания.
В своих воспоминаниях о самых трудных годах в жизни нашей семьи я не раз еще буду писать о Владимире Александровиче Энгельгардте и Милице Николаевне Любимовой-Энгельгардт. Только благодаря их моральной и материальной поддержке и я, и дети, и вся семья в целом избежали мучительных тягот и возможных трагедий.
Извилист и непредсказуем путь Судьбы человеческой. Эта "дама" бежит впереди тебя, как бы указывая путь следования. На развилке дорог останавливается, пропуская тебя вперед, и терпеливо ожидает, какое направление ты выберешь. Иногда она останавливается на прямой и ровной дороге и опять пропустит тебя вперед - это знак непредвиденной беды, и она стоит за твоей спиной до тех пор, пока ты не справишься с обрушившимся на тебя несчастьем.
В августе 1941 года я с первым мужем (инженером-геофизиком Дмитрием Германовичем Косякиным) и двухлетним сыном Юрой возвращалась в Москву из трехлетней геофизической экспедиции на Таймыр. Наш океанский пароход вместо того, чтобы плыть на запад, взял почему-то курс на восток до Медвежьих островов. По пути следования он везде забирал зимовщиков. Когда мы приплыли в Игарку, на палубу поднялся военком. Переписав по паспортам всех мужчин и нескольких женщин, он сообщил, что Германия напала на Советский Союз, и обязал всех включенных в список через три дня (для устройства семей, у кого они были) явиться в военкомат, имея при себе... Это был оглушающий удар! Через три дня ожидавший мобилизованных речной пароход увез всех в Красноярск, оттуда эшелоном в Москву, и через две недели офицеры были уже отправлены на фронт. Через 20 дней мой муж погиб в бою под Смоленском - ему было только 28 лет...
За три дня он успел найти мне с сыном комнату (в Новой Игарке), оплатил ее за год вперед, оставил нам часть денег, остальные положил на книжку на мое имя (деньги оказались арестованными до конца войны). Я быстро устроилась на работу управделами Игаркторга (в Старой Игарке) и нашла для сына очень хорошую пожилую няню, эвакуированную из Мурманска. Между работой и моим жильем было 4 км, следовательно, мой ежедневный путь был равен 8 км по дощатому "тротуару" вдоль забора знаменитой Игаркской лесобиржи с одной стороны и реденькой лесотундрой - с другой. Особенно тяжел был этот путь зимой: темно (редкие фонари на лесобирже), мороз, ветер, а руки заняты обедом из столовой и сумкой с молоком и продуктами для сына. Я накидывала на голову большой шерстяной плед и, ориентируясь по носкам валенок, ощупью проделывала обратный путь. А еще была забота о покупке и доставке дров и снабжении водой из речки, протекающей под крутым обрывом, поднимаясь по которому, я часто падала вместе с полными ведрами вниз.
Осенью 1943 года я решила перебраться в Норильск, где жизнь и возможность устройства на работу были несравненно лучше и зарплата выше. Норильский никелевый комбинат был известен на всю страну, так как снабжал фронт и государственную казну никелем и цветными металлами, добывал уголь для местной промышленности, учреждений и для иностранных судов, приходивших в Игарку за лесом...
А. А. Баева по этапу привезли в Норильский лагерь из Соловецкой тюрьмы особого назначения (СТОН) в начале сентября 1939 года. Около полутора месяцев он был на общих работах - долбил промерзший грунт под фундамент очередного завода. Из-за детренированности за два года сидения в Соловках он стал быстро терять силы и не мог давать нужную выработку, что отражалось на и без того скудном пайке. Однажды в эту группу заключенных пришел кто-то из администрации лагеря и спросил: "Есть тут врачи?!" Александр Александрович отозвался и уже на следующий день был направлен в больницу 3-го лаготделения врачом, а несколько позднее переведен в профилакторий для "доходяг" на Медвежьем ручье. Здесь он жил в "собственной" брезентовой палатке, обложенной кубами выпиленного снега, на 40-градусном морозе. В бараке для больных был чугунный камелек, в котором день и ночь тлел уголь.
Как принято в среде заключенных, в каждом вновь прибывшем этапе все начинают искать своих родственников и знакомых. Так и заведующий и одновременно хирург больницы для вольнонаемных расконвоированный заключенный В. Е. Родионов через какое-то время узнал, что в лагере врачом работает А. А. Баев, его однокашник по Казанскому университету. Он немедленно обратился к начальнику комбината А. А. Завенягину с просьбой прислать в больницу прекрасного терапевта широкого профиля, нужда в котором в Норильске была весьма острой. И вот в начале января 1940 года А. А. Баев был направлен в больницу для вольнонаемных, где проработал до нашего отъезда из Норильска в 1947 году.
Александр Александрович заведовал в больнице терапевтическим, детским и инфекционным отделениями. Одновременно был анестезиологом или ассистентом при сложных операциях, диетологом и ночным дежурным врачом больницы. Организовал рентгеновский кабинет и был при нем рентгенологом, заведовал молочной кухней (с предварительным обучением персонала), занимал должность ответственного секретаря научно-методического бюро при санитарном отделе комбината. Читал лекции на медицинские темы по радио для жителей Норильска. Устраивал семинары, лекции и консультации для "ленивых" врачей, которые довольствовались полученными в давнее время знаниями и не любили заглядывать в большую и очень хорошую медицинскую библиотеку в самой больнице.
Чтобы не носил из лагерной зоны заразы, Александра Александровича поселили в больнице в маленькую каморку с вытяжной трубой из больничной кухни, которая создавала у него иллюзию жарких дней на Волге. К счастью, в больнице были душ и ванна. Слава о враче А. А. Баеве быстро распространилась по всему Норильску. Начальство оценило новое "приобретение" и дало команду на патронирование семей высокого начальства. Посыпались благодарности, премии, очаровательная памятная шкатулочка от жены начальника комбината. И как апофеоз - сокращение лагерного срока на три года "за отличную работу и примерное поведение" (как школяру!). Увы, таков был канцелярский стиль... Освободили его из лагеря 22 апреля 1944 года. Но за ним оставалось пятилетнее поражение в правах до 1949 года, и до конца войны его не должны были отпускать из норильской больницы. В утешение он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
31 мая 1944 года произошла трагедия с моим пятилетним сыном: виновница - слепая случайность. Я оказалась с ребенком в детском отделении больницы.
На следующее утро в палату вошел врач А. А. Баев. Я почувствовала - вошла Судьба! Положение сына оказалось безнадежным, и на третьи сутки он умер... Александр Александрович занялся необходимыми бумагами, выписал мне бюллетень, подобрал лекарство, я ни на что не реагировала - глаза застилали слезы. Он что-то говорил мне тихим успокаивающим голосом, но я не слышала его, улавливая только интонации. Он вызвал сестру проводить меня до дома. Через неделю я пошла в больницу продлить больничный лист. Как только Александр Александрович зашел в ординаторскую, я заплакала и не потому, что он не смог спасти моего ребенка - я понимала всю безнадежность ситуации, - а потому, что он был свидетелем его смерти.
Была середина июля. Однажды утром около своего дома - двенадцатикомнатного барака - я увидела Александра Александровича, и мы пошли с ним вместе, так как больница и управление были почти рядом, на одной улице. Бывало, что и вечерами он поджидал меня около больницы и провожал до дома. Постепенно мы привыкали друг к другу. Односложные разговоры сменились беседами. Он оказался очень приятным и легким собеседником - живым и остроумным, легко подхватывал любую тему разговора, и голос его - мягкий и негромкий - действовал успокаивающе.
"Между прочим, мы соседи, - сказал он. - Вот за озером двухэтажный деревянный дом. Как только я освободился из лагеря, мне дали на втором этаже прекрасную комнату, скромно обставленную, но с телефоном. ..".
В сентябре я решилась спросить его о 1937 годе. Все происшедшее с ним было настолько чудовищным, что от его рассказа меня била дрожь, а он тихим спокойным голосом без видимого волнения вел свой рассказ.
"Я работал в 1937 году старшим научным сотрудником в лаборатории В. А. Энгельгардта и одновременно ученым секретарем Института биохимии АН СССР. 30 апреля 1937 года ночью меня разбудил незнакомый мужской голос. Мне протянули две бумажки - одну на обыск, другую на арест. Это было столь неожиданно и нелепо, что я даже не успел испугаться и только плачущей маме сказал, что скоро вернусь. Увы, я ее больше никогда не видел. Она умерла в 1938 году в сырой подвальной комнате, выселенная из квартиры, от воспаления легких", - в глазах блеснули слезы, и он надолго замолк... Я попросила прощения.
Потом он продолжил: "Одним из тяжелейших ударов был этот неожиданный арест: стыд, обида, непонимание происходящего, тревога за маму, разрушенные надежды на защиту диссертации и... все же уверенность, что это ошибка. Обыск, конечно, ничего не дал. Повезли в Бутырскую тюрьму; обитатели камеры показались мне истинными преступниками - одутловатые, заросшие щетиной лица являли страшное зрелище. Скоро я был похож на них. Камера перегружена, арестанты разнокалиберные (много шпаны). Здесь я прошел "краткий курс тюремного университета". Ко мне подсел некто Пятков - администратор Московского автомобильного завода и преподал урок поведения, за что впоследствии я был ему очень благодарен. Наш разговор:
- Ну, а вас, Александр Александрович, за что посадили?
- Не знаю.
- Анекдоты небось рассказывали?
- Нет. Анекдоты иногда слушал, но не рассказывал и не запоминаю я их.
- Может быть, высказывали какие-нибудь предосудительные идеи?
- Не высказывал и был далек от политических интересов.
- Возможно, у вас есть какие-нибудь недоброжелатели - могли донести?
- Нет у меня недоброжелателей.
- Вы член партии?
- Беспартийный.
- Кто-нибудь из ваших знакомых был арестован?
- Разве только В. Н. Слепков, в семинаре которого я состоял, будучи аспирантом.
- Ну вот, вас из-за этого и арестовали. Теперь вас обвинят в том, что вы были участником подпольной организации.
Я обиделся и два дня с Пятковым не разговаривал. Он подсел ко мне сам и возобновил разговор, сказав, что он не думает, что я был членом подпольной организации, но наверняка именно в этом меня будут обвинять. Пятков рассказал мне, что сейчас происходит, и объяснил, как ведут следствие. Он предостерег меня от подписывания протоколов с признаниями, которые мне будут подсовывать, от наговоров на себя, потому что "тот, кто наговорил на себя, легко оговорит другого или других..."
В заключение Пятков сказал: "Никаких надежд на выход из тюрьмы у меня нет, как нет их ни у кого из сидящих здесь сейчас". Последние его слова были для меня тяжелейшим ударом, и я несколько дней был сам не свой, но затем смирился со своей судьбой - что было делать? Еще раз скажу, что Пяткова я вспоминаю с величайшей благодарностью: он лишил меня иллюзий, но зато укрепил дух. Я решил твердо, что оговаривать себя и других не стану ни при каких обстоятельствах (еще не зная всего набора вымогательств признаний). Потом я получил представление о том, какие трюки применяют следователи. Таким образом, я был уже достаточно подготовлен к жестокому следствию, которое велось в Казанской тюрьме, куда меня вскоре привезли. Все истерические выпады моего следователя Царевского, угрозу пистолетом, вопли, ночные допросы и, наконец, карцер за то, что я не подписал ни одного листа допросов, отвечал односложно: "Да", "Нет", никого не оговорил и не подтвердил его провокационных ловушек, я перенес довольно "легко"... Я ходил к следователю в пальто, в карман которого клал два кусочка сахара, и, когда чувствовал, что истощаются физические силы, незаметно подбрасывал в рот сахар. Мое следствие шло тогда, когда дело было фактически закончено, обозначено и все были уже допрошены, - я "опоздал". Это меня в известной степени спасло, так как я был последним "винтиком".
Однако суд вынес жестокий приговор - 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. Я впал в шок и с этого дня начал седеть... После суда отправили во Владимирскую тюрьму, где формировали этап в Соловецкую тюрьму особого назначения - СТОН. Интеллигентная публика была сильно разбавлена урками, которые могли избить, что понравится, отобрать или просто своровать, изъяснялись только на своем жаргоне. Мне опять повезло: я сказал, что я врач, и ко мне урки не стали предъявлять никаких требований - в лагерях и тюрьмах уважают врачей. Но общая атмосфера была ужаснейшая. Я старался утешить себя тем, что меня не приговорили к расстрелу, а ведь пятиминутный "суд" мог это спокойно огласить. Так что я пока жив и должен быть этим доволен.
Потом опять этап и в трюме огромной баржи путешествие на Соловки. И вот я - член (без своего согласия на это звание) подпольной террористической организации молодых бухаринцев, возглавляемой В. Н. Слепковым, которая была придумана НКВД как подготовка к процессу над Бухариным, Рыковым и др., чтобы доказать, что названные лица покрыли весь Советский Союз сетью подпольных организаций, - "мирно" плыву в Соловецкий лагерь.
В ноябре 1937 года нас высадили в холодную, ветреную лунную ночь на пустынный каменистый берег, где после приема заместитель начальника лагеря отобрал у нас собственную одежду и выдал тюремную форму.
Кельи Соловецкого монастыря были капитально и добротно переделаны в небольшие камеры. Эта добротность наводила на мысль, что здесь придется провести все 10 лет... В этой обстановке нужны были моральная стойкость, твердость духа и, по возможности, сохранение физического и, самое главное, психического здоровья. Необходимо избежать воспоминаний о прошлом. Будущее совершенно непредсказуемо. Настоящее утомительно, монотонно и отупляюще. Дни разнообразились только частыми обысками, придирками надзирателей, вызовом кого-нибудь из сокамерников к начальству (меня ни разу не вызывали), баней, лавочкой, выдачей двух книг (по каталогу), тетрадей (на обмен), карандаша и очень редко весточек от мамы в виде маленьких денежных переводов. Общение внутри камеры ограничено из-за боязни доносов, различий в культурном уровне, характерах и личных чертах сокамерников.
Надо было спасать свой разум, духовный мир и интеллект - иначе наступит деградация личности. Я поставил перед собой цель - ежедневная умственная тренировка, в ней все спасение! Для этого я выбрал занятия высшей математикой (решение задач) и иностранными языками: немецким и французским (составлял для себя словари). Один словарь случайно у меня сохранился. Для души была беллетристика. К великому моему счастью, выбор книг был достаточно широк. Постоянные занятия почти полностью отключали меня от окружающей среды, воспоминаний, дум о будущем. Полное погружение в себя и дело, которым я был занят, делали меня иногда даже счастливым. Это спасало от рутины существования, сохраняло работоспособность мозга и нервную систему на будущее. И так все два года!
...Углубившись в работу, я несколько успокоился. Меня не расстреляли, жизнь продолжается, и я становился фаталистом, положившись на судьбу! У меня стал формироваться новый характер. Прочел стихи Уитмена, "Божественную комедию" Данте, "Сказание о Роланде", "По ком звонит колокол" Хемингуэя, Диккенса, Гюго, много книг на немецком и французском языках и др.
Однажды была дана команда: "Всем покинуть камеру". У меня на миг сверкнула мысль - неужели расстрел? Но это было новое звено, новый поворот в моей жизни - путь в Норильск. Нас погрузили на баржу. Пронесся слух, что еще могут всех утопить, так как такие случаи бывали, когда заключенных вывозили в море и там отправляли на дно, но эта трагедия нас миновала. Вот, кажется, я все Вам рассказал".
Мы долго молчали. Каждый думал о своем. Я поражалась силе его воли и характера, целеустремленности и вере в жизнь, и все это на краю гибели в любой момент, а он поставил перед собой цель - выжить наперекор судьбе. И сейчас эта необыкновенная личность, достойная глубокого уважения, сидит спокойно рядом со мной, слегка улыбаясь, - доступный, расторможенный, простой, добрый и седой человек...
20 декабря 1944 года я переехала к Александру Александровичу.
Судьба привела меня к дороге, по которой я полстолетия шла с любимым и любящим человеком, человеком редкого таланта, силы воли, мужества, благородства и верности. Путь наш был труден, но мы не разжали своих рук на этом долгом пути. Благодарю свою судьбу за этот подарок...
Перед новым 1945 годом Александр Александрович показал мне полученное от Владимира Александровича Энгельгардта очень теплое письмо, в котором он поздравлял Александра Александровича с досрочным освобождением из лагеря и между прочим спрашивал: как он относится к своему возвращению к научной деятельности? У Владимира Александровича сохранился экземпляр кандидатской диссертации Александра Александровича, которую он написал в 1937 году. В. А. Энгельгардт считал, что если ее "освежить", то она вполне сохранит свою актуальность. В этом Владимир Александрович был готов ему помочь, а после защиты мог бы предоставить Александру Александровичу работу в Ленинградской лаборатории в Институте физиологии им. Павлова, где директором был академик Л. А. Орбели.
"Как ты на все это смотришь?" - спросил меня Александр Александрович. Мое сердце сжалось от тревожного предчувствия, но я уже отдала себя "на заклание"! "Прежде всего, тебе нельзя жить в Ленинграде и Москве и вообще в столицах с твоим поражением в правах в течение 5 лет. И комбинат тебя не отпустит: с такими специалистами, как ты, легко не расстаются". - "Но в принципе?" И, понизив голос, добавил: "Катенька, я не могу жить без научной работы..."
Пока я читала письмо Владимира Александровича Энгельгардта, я чувствовала, что Александр Александрович пристально следит за выражением моего лица, а когда я взглянула на него, то мне стало ясно, что наука - это его страсть, мечта и тот водораздел, который рано или поздно образуется между ним и семьей, но возражать ему бесчеловечно и жестоко...
Ответ его Владимиру Александровичу был чрезвычайно взволнованным, в тоне бурного ликования. Если бы возможно было осуществить предполагаемый замысел, то для него это подобно возвращению в Эдем!
Все вечера Александр Александрович стал просиживать за ранее начатыми работами, как бы готовясь к отъезду.
Это были работы:
1) "К вопросу о болезни крови на Крайнем Севере" (статья и доклад на конференции врачей в больнице комбината), 1945 г.;
2) "Справочник по питанию грудных младенцев" (издан и читался по 15 минут ежедневно по радио), 1945 г.;
3) "Электрические явления в атмосфере, в частности ионы" (доклад для врачей по метеорологичес ким данным по Норильску и "Ламе"), 1945 г.;
4) "Радиационные ресурсы Норильска" (доклад на конференции врачей), 1946 г.;
5) "О медицинском отборе кадров для работы на Крайнем Севере в связи с климатическим фактором" (совместно с доктором З. И. Розенблюмом), 1945 г.
Началось лето 1945 года. На июнь и июль Александр Александрович оформился врачом на "Ламу", а у меня был очередной отпуск, и месяц я взяла за свой счет (я ждала сына). Каким вниманием, любовью и заботой окружил меня Александр Александрович. Это была не жизнь, а "Песнь песней"! Лето было замечательное, природа для Крайнего Севера сказочная: настоящий лес, огромное чистое озеро (правда, ледяное), окруженное невысокими, причудливой формы горами, грибы, масса брусники, абсолютно чистый воздух и рядом любимый и любящий человек.
15 августа 1945 года у нас в Норильске родился сын Алеша. Александр Александрович был горд и счастлив. Он гулял с малышом, помогал мне возиться с ним, вставал к нему ночью и учил меня готовить смеси для прикорма. Нам дали двухкомнатную квартиру в новом доме...
Между тем В. А. Энгельгардт стал пробивать для Александра Александровича разрешение на поездку в Москву - "для переговоров о будущей работе". В действительности имелась в виду работа над диссертацией. На эту поездку сроком в один месяц надо было получить разрешение начальника комбината. Прошения, разъяснения, телефонные разговоры, когда начальник комбината приезжал в Москву на очередной съезд, - все это делал В. А. Энгельгардт, и только в сентябре 1946 года было получено милостивое разрешение на поездку в Москву на месяц. Таким образом, для получения разрешения на поездку А. А. Баева на один месяц в Москву ушло целых полтора года. Александр Александрович немедленно выехал.
С присущей Владимиру Александровичу добротой и заботой была подобрана вся нужная для работы литература, оставлены в полное распоряжение А. А. Баева домашний кабинет и домработница, которая его кормила, а сам Энгельгардт со всей семьей уехал в отпуск. Через месяц диссертация была "освежена" - учитель и ученик остались довольны!
А между тем 7 февраля 1947 года у нас появилась на свет дочка - Татьянка. Александр Александрович, очевидно, взвесив все сложности задуманного плана, учитывая появление двух маленьких детей, пишет В. А. Энгельгардту второе письмо с отказом: "Мне вряд ли стоит рисковать своим упроченным положением в Норильске. Мы получили хорошую двухкомнатную квартиру в новом доме, работа врача и рентгенолога дает мне полное удовлетворение, и я не уверен в своих силах и способностях плодотворно трудиться на ниве науки после столь долгого перерыва. Пусть все остается так, как уже сложилось. И вам, Владимир Александрович, не надо больше тратить силы и время на пустые хлопоты..."
Я не знаю, успел ли В. А. Энгельгардт получить это письмо и была ли его телеграмма ответом на него или это простое совпадение, но в ней было следующее: "Защита 6 июля 1947 г. [в] Институте им. Павлова. Все согласовано".
У В. А. Энгельгардта не было передышки в хлопотах о делах Александра Александровича. Обращение к Л. А. Орбели с просьбой провести защиту в его институте, подыскание оппонентов - согласились С. Е. Северин и Е. М. Крепс, обращение в НКВД СССР за разрешением Баеву работать в Ленинграде и одновременно переговоры с Панюковым, чтобы он отпустил его на две недели в Ленинград для защиты диссертации.
К хлопотам о разрешении Александру Александровичу работать в Ленинграде по доброй воле подключился и академик Л. А. Орбели, как он сказал, "для веса". Он обращался в НКВД два раза лично и три раза вместе с В. А. Энгельгардтом (один раз даже непосредственно к Берии). А Владимир Александрович с начала 1945 по 1947 год подал 18 ходатайств и просьб в различные инстанции (!!!), опасные и неприятные для него. Настойчивости, энергии и храбрости В. А. Энгельгардта можно только поражаться, особенно учитывая, что в это время он был очень занят, так как работал одновременно в Москве и Ленинграде. Но от НКВД пришел отказ. И тогда Владимир Александрович вспомнил о своей работе во время эвакуации на базе Академии наук во Фрунзе, где у него сложились дружеские отношения с руководством, и, заручившись поддержкой академика К. И. Скрябина, он едет во Фрунзе, организовывает там маленькую лабораторию с двумя сотрудницами и с вакантным местом для руководителя - А. А. Баева. Все было окончательно договорено!
От начальника Норильского комбината по согласованию с Москвой Александр Александрович получает разрешение на поездку на 10 дней в Ленинград для защиты диссертации...
Из Ленинграда Александр Александрович вернулся в угнетенном состоянии. Добился разрешения на отъезд из Норильска, чем доставил большое неудовольствие Панюкову, Родионову и вызвал огромное сожаление у тех, кто у него лечился. Через несколько дней он сказал мне, что мы должны уехать во Фрунзе с последним пароходом.
Я онемела...
"Раз я не смог отказаться от перспективы возврата к науке и ты меня поддержала, то теперь я, а следовательно, и ты обязаны оценить и отблагодарить Владимира Александровича Энгельгардта за его титанический труд в течение двух с половиной лет. Я своей самоотверженной работой должен доказать, что он не ошибся во мне. Кроме того, другой возможности вырваться из Норильска без такой большой поддержки, какую нам оказывает Владимир Александрович, у нас никогда не будет. Я понимаю, что для детей и тебя это очень тяжелая операция. Но пойми и меня! Я не могу отплатить Владимиру Александровичу Энгельгардту черной неблагодарностью за все, что он сделал для меня, а следовательно, и для нашей семьи. Я должен честно сказать тебе, что мне больно расстаться с мечтой о возвращении к исследовательской работе, к которой я предназначен самой природой... Не горюй, не тревожься! Я надеюсь, что все окончится благополучно!.."
Сыну 2 года и 2 месяца, дочке 7 месяцев - все бросить, лишиться крова, сменить в одночасье Заполярье на крайний юг, проделав при этом путь в 5 тысяч километров, и начинать все сначала. Боже! Дай здоровья детям и силы мне! Все это похоже на кошмарный сон... Вот она Судьба! Если бы я тогда знала, что это только начало горьких испытаний, могла ли бы я что-нибудь изменить? Нет! Любовь и горе на всех поровну!..
***
В 1959 году кандидат биологических наук А. А. Баев перешел из Института биохимии им. А. Н. Баха АН СССР в организованный в ту пору академиком В. А. Энгельгардтом Институт радиационной и физико-химической биологии АН СССР (ныне - Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН)...
В 1967 году А. А. Баев защитил докторскую диссертацию, в 1968 году избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1969 году удостоен Государственной премии, в 1970 году избран действительным членом АН СССР.
В 1971 году А. А. Баев был избран академиком-секретарем Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений Академии наук СССР, которым бессменно руководил в течение 18 лет. С 1976 по 1979 год был президентом Международного биохимического союза.
В 1988 году А. А. Баев возглавил Научный совет программы "Геном человека" и руководил им до своей кончины.
(Продолжение следует.)
Читайте в любое время