Меньше некуда
Вы думаете, что одноклеточные организмы не умеют ничего, кроме как плавать в мутной воде и есть друг друга? Тогда доктор биологических наук Денис Тихоненков из Института биологии внрутренних вод РАН расскажет вам, как благодаря простейшим можно будет лечить генетические болезни, как они помогают планете справляться с глобальным потеплением и ещё много интересного из жизни этих необычных существ.
Когда-то мы с детьми взахлёб читали книгу Уильяма Джойса «Лифмены и добрые смелые жуки», покорившую своим нетривиальным взглядом на мир. Сюжет книги таков: одержимый безумной на первый взгляд идеей профессор полжизни доказывает всему миру, что рядом с нами существует невидимый невооружённым глазом мир крошечных, но вполне разумных существ. И оказывается совершенно прав. Они есть — и так же, как мы, они страдают, негодуют, любят, ненавидят... Их жизнь, так разительно похожая на нашу, в то же время совершенно другая: в силу крошечных размеров обитатели этого мира существуют по иным физическим законам. Читая эту книгу, я испытала чувство сомнения — а что, если это не такая уж фантастика? Ведь то, что мы не видим каких-нибудь существ из-за их микроскопического размера, совершенно не значит, что их нет. Вот об этом «невидимом» мире и его удивительных обитателях мы расспросили д.б.н. Дениса Викторовича Тихоненкова, руководителя группы протозоологии Института биологии внутренних вод РАН.
— Денис Викторович, что такое протозоология?
— Это наука, которая изучает одноклеточных простейших — организмы, которые имеют ядро, но при этом состоят из одной клетки.
— А ведь кому-то это может показаться неинтересным: вы не можете взять это существо на руки, рассмотреть, как оно ползает, питается, ведёт себя.
— Наоборот — с таким невидимым миром работать очень интересно. Он полон тайн и загадок, и каждый раз ты открываешь в нём что-то новое, удивительное. Наблюдая их в микроскоп, чувствуешь свою причастность к этому миру.
— А насколько маленьким в принципе может быть живой организм? Существует ли какой-то предел размера одноклеточных?
— Жгутик клеток имеет толщину 200 нанометров, микротрубочки — 24 нанометра, а толщина клеточной мембраны — 7–8 нанометров. Представьте, что такой тончайшей мембраной окружён мельчайший пузырёк. Тоньше из-за своего молекулярного строения мембрана уже не может быть. Существует предел как мельчайшим, так и большим размерам. Дерево, достигшее определённой высоты, обрушивается под тяжестью своего веса. Также же и у животного, достигнувшего критической массы, пережмутся сосуды, и оно погибнет. Простейший микроорганизм тоже может существовать лишь в пределах определённых параметров, заданных природой.
— Как вышло, что вы решили заняться изучением мира существ, невидимых невооружённым глазом?
— Пришёл в эту область я относительно случайно, благодаря своему научному руководителю. Когда в университете пришла пора писать дипломную работу, я попал сюда, в Борок, на дипломную практику. Это было в 2002 году. Исследования меня совершенно захватили, и с тех пор я здесь. Для молодого человека возможности заниматься наукой тут открываются немалые, и я видел на примере старших коллег, чего они добились, в том числе на международном уровне. Публикации, поездки, экспедиции — это полноценная жизнь больших учёных, к чему я всегда стремился.
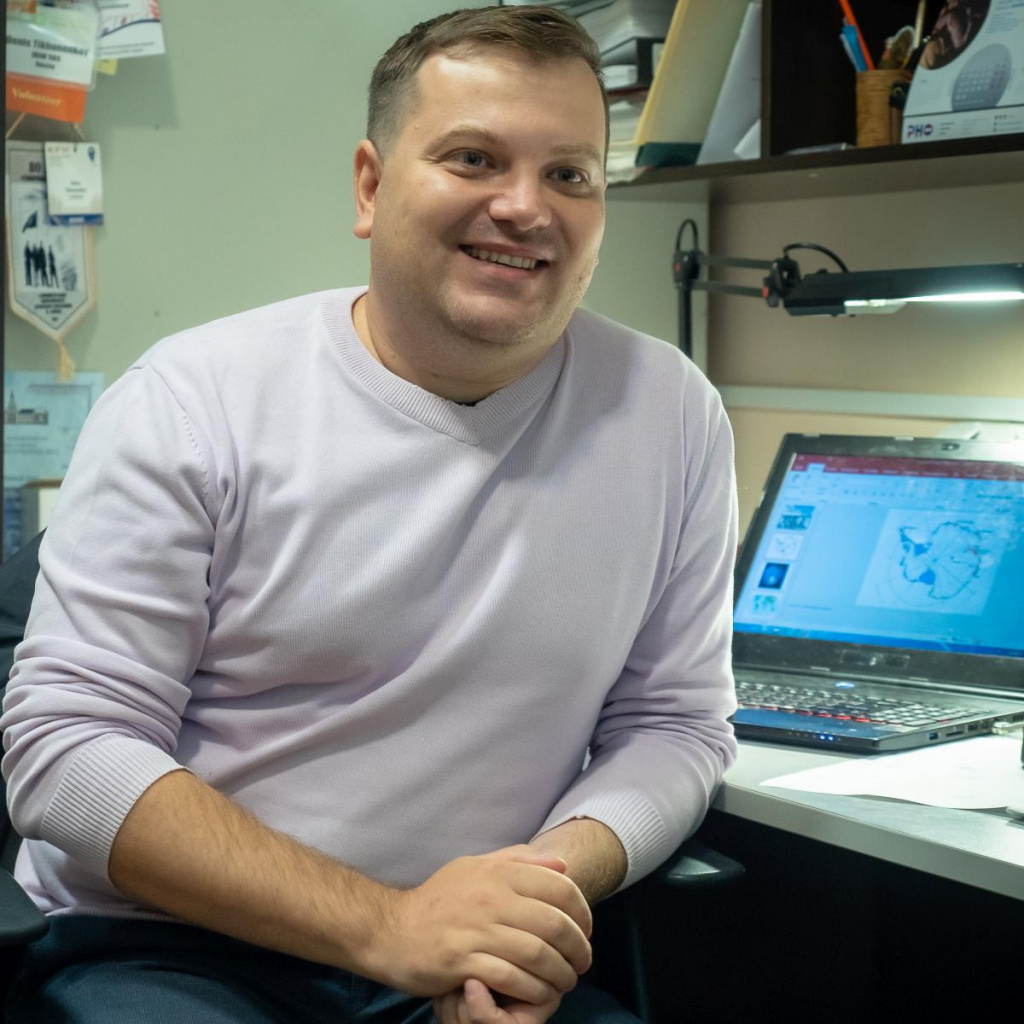
Доктор биологических наук Денис Викторович Тихоненков, руководитель группы протозоологии Института биологии внутренних вод РАН. Фото: Андрея Афанасьева.
— Итак, мир крошечных существ — он более или менее разнообразен, чем наш, видимый мир? Какой он?
— Да, он более разнообразен и не менее сложен. Все мы проходили в школе, что существуют царства животных, растений, грибов и протистов, но сейчас вся эта устоявшаяся классификация пересмотрена. По данным молекулярной филогении, в природе есть и другие царства. В настоящее время уже открыто порядка двадцати различных эволюционно независимых групп простейших, которые гораздо менее родственны друг другу, чем, например, растения и животные. Это двадцать различных царств, и почти все представлены исключительно одноклеточными, а растения, животные и грибы — это всего лишь маленькие веточки, которые отходят от эволюционного древа тех или иных простейших.
Мы видим огромное эволюционное разнообразие неродственных групп, которые произошли от какого-то общего предка миллиарды лет назад, разделились и ушли в своём уникальном эволюционном направлении. Одни из этих ветвей дали начало многоклеточным организмам — грибам, растениям и животным, а другие так и остались одноклеточными. Мы их наблюдаем, открываем всё новые виды разных эволюционных линий, они имеют разную молекулярную организацию, разный метаболизм, физиологию, и их роли в экосистемах отличаются.
— И какая это может быть роль?
— Например, они все по-разному питаются. Кто-то осуществляет фотосинтез, как зелёные растения, кто-то поедает бактерии, кто-то — друг друга, кто-то перерабатывает растворённую органику, кто-то питается детритом (мёртвое органическое вещество — прим. ред.). Они занимают огромное разнообразие экологических ниш и тесно связаны между собой, вступают в симбиоз с бактериями — с прокариотами, обмениваясь с ними элементами метаболизма. Простейшие заражаются вирусами и так же, как мы с вами, могут болеть и погибать. Все эти процессы требуется изучать, чтобы понять, как устроен мир одноклеточных, поскольку это начальное звено функционирования всех экосистем.
— Кроме понимания того, как всё это устроено, что это нам даёт в практическом смысле?
— Чем дольше мы работаем, тем больше открывается потенциальных возможностей для людей. Простейшие считаются перспективным объектом биотехнологий. Например, они могут вырабатывать нужные человеку вещества: биотопливо или соединения, которые используются в фармацевтике для производства лекарств. Это могут быть и вещества для биологической защиты. Все эти перспективные технологии сейчас находятся на начальном этапе разработки, и ясно, что здесь требуется тесная связь фундаментальной науки и практики. Одна лаборатория мало что может тут сделать. Мы можем расшифровать геном, но мы никогда не будем синтезировать медицинский препарат на основе знаний о тех белках, которые зашифрованы в этом геноме. Это удел компетенций других лабораторий и организаций.
— Слышала, что на основе ваших разработок скоро может появиться лекарственный препарат от малярии, это правда?
— У малярийных паразитов и родственных им простейших, которых мы изучаем, есть клеточная структура — апикопласт, это редуцированная пластида. Когда-то предки этих паразитов были безобидными водорослями, которые перешли к паразитическому образу жизни, в результате чего у них редуцировался фотосинтетический хлоропласт, который превратился в апикопласт. Он выполняет важные для клетки функции — в частности, отвечает за синтез жирных кислот. Так вот, этого апикопласта нет в клетках животных и человека. Знание о белках, которые входят в этот апикопласт, позволяют создать медицинские препараты, которые будут действовать избирательно на белки этой органеллы, убивая клетки паразитов, но никак не затрагивая клетки хозяина — человека или животного. Насколько мне известно, в данный момент продолжаются работы по созданию такого препарата.
— У вас недавно вышла статья в Nature на тему, как с помощью простейших можно попытаться исправить «неправильные» мутации в геноме человека. Расскажите, в чём суть этой работы.
— Все мы в школе слышали такое понятие, как «генетический код». Мы знаем, что белки состоят из множества аминокислот, а аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, и это очень консервативно в случае многоклеточных организмов. А для одноклеточных ситуация другая — у них имеются очень разнообразные исключения в генетическом коде. Они могут те же аминокислоты кодировать сочетаниями других нуклеотидов. С точки зрения человека это кажется сверхъестественным процессом, который не укладывается ни в какие классические модели, но простейшие как-то выживают и прекрасно себя чувствуют. Расшифровывая их геномы, мы можем понять, как ещё возможно закодировать те или иные аминокислоты или белки, как устроены процессы репликации в клетках простейших, и всё это в конечном счёте может быть использовано в генетической инженерии — в исправлении вредных последовательностей нуклеотидов, приводящих к мутациям, ещё на стадии эмбриона человека.
— А это не опасно — вот так вмешиваться в святая святых, в ДНК человека?
— Это может быть опасно. На этом пути неизбежны сомнения и ошибки, но потенциальная польза перевесит все негативные моменты. Поначалу всё страшно. Когда древний человек добыл огонь, его это тоже пугало. Когда появился первый автомобиль, тоже было много страхов. Но прогресс неотвратим, и наши исследования обязательно приведут к тому, что люди научатся исправлять генетические дефекты.
— Можно ли их считать ошибками природы?
— С точки зрения человека — да, это ошибки. С точки зрения природы никаких ошибок нет, и всё, что существует, может существовать. Но для нас как биологического вида, который хочет сохранить себя в неизменном состоянии, это невыгодно.
— Может быть, наоборот, такие дефекты — это некий отбор, который способствует усилению вида в целом? И в этом случае, борясь с дефектами, мы ослабляем себя как вид?
— Когда мы всё это делаем, мы думаем не об эволюции, а о том, как нам жить лучше, как повысить качество своей жизни. Когда мы изучаем генетический код или геном простейших, такие вопросы себе вообще не задаём. Мы лишь вставляем свой кирпичик в фундаментальную науку, и неизвестно, пригодится ли он. Но хочется верить, что пригодится. Зачастую то, что кажется незначительным, со временем выстреливает научным прорывом. Когда Ньютон открыл закон всемирного тяготения, это никому не показалось сколько-нибудь интересным. Его считали лодырем и лентяем. Да он и сам не предполагал, что на основании этого закона Циолковский изобретёт космическую ракету, которая покинет пределы Земли. Да и Циолковского с его идеями космических ракет многие современники считали сумасшедшим.
— У вас ещё ведётся климатическая программа. Здесь масштаб проблем несколько больше, чем в случае с простейшими… Как так получилось, что вы занялись ещё и темой, связанной с глобальным потеплением?
— «Карбон» — это часть популярной сейчас климатической программы, за которую всерьёз взялись политики разных стран. И мы только что приняли участие в открытии карбонового полигона в Тюмени. Возможно, в скором времени возникнет ситуация, когда все выбросы парниковых газов будут жёстко контролироваться в разных странах, и каждая страна будет иметь годовые квоты на выбросы продуктов, приводящие к парниковому эффекту. Страны, которые выбрасывают больше таких газов (например, Китай или США), будут платить карбоновый налог. А страны, которые не выработали свою квоту, смогут этой квотой торговать. В нашей стране создаются карбоновые полигоны, чтобы на разных типах экосистем вычислить потоки парниковых газов и понять, очищает Россия планету или наоборот.
— И что же выясняется?
— Пока что считается, что благодаря огромной площади сибирских лесов и болот можно составить грамотное обоснование, что Россия больше поглощает углекислого газа, чем выделяет, и поэтому может торговать своими квотами.
— И всё же, а каким образом здесь могут пригодиться ваши исследования одноклеточных?
— В Тюменском университете мы открыли лабораторию, которая называется AquaBioSafe. Дело в том, что водные экосистемы, изучением которых занимается наш институт, вносят большой вклад в формирование потоков углерода. В основном это касается болотных экосистем, занимающих в Сибири огромные природные площади. В них откладывается углерод из атмосферы в виде торфа, тем самым атмосфера очищается, но в то же время, из болот может выделяться метан, который является гораздо более сильным парниковым газом, чем окись углерода.
Такой своеобразный процесс, как дыхание болот, требуется изучать не только с фундаментальной точки зрения. Болота могут дать нам понимание того, как изменялся климат в прошлом, и что представляет собой нынешнее потепление климата. Это нашумевшая тема, но до сих пор нет единой точки зрения, какую роль здесь играет антропогенный фактор. Проблема в том, что погодные изменения измеряются слишком короткое время, максимум пару сотен лет, и не могут дать нам чёткого ответа на этот вопрос. А может быть, человечество переоценивает свои возможности, и нынешнее потепление сменится похолоданием, как уже не раз бывало в геологической истории?
Все эти процессы хотелось бы отследить, и здесь могут помочь болота, поскольку торф в них откладывается на глубину до нескольких десятков метров, а с помощью радиоуглеродного анализа можно определить возраст того или иного пласта. Таким образом, мы устанавливаем, какому пласту 500 лет, какому тысяча, а какому две. Параллельно с этим можно провести споро-пыльцевой анализ и установить, какие растения произрастали на данной территории в то или иное время. В этих же слоях торфа можно обнаружить и раковинки простейших.
— Наконец-то мы к ним снова вернулись!
— Да, это раковины амёб или тестаций, которые служат очень хорошими индикаторами влажности. По таксономическому составу раковин амёб в том или ином геологическом пласте можно судить о влажности территории в тот или иной момент, а через это проводить климатические реконструкции — выяснять, как изменялся климат на этой территории в течение последних тысяч лет.
— Почему для этого нельзя использовать ваши болота, а надо ехать в Сибирь?
— Сибирские болота прошли длительную историю развития, там огромные территории, сотни тысяч квадратных километров, поэтому такая работа там наиболее эффективна и интересна.
— Насколько я понимаю, болота — это вообще неисчерпаемый кладезь научной информации. Вы изучаете простейших, геофизики находят в торфе космическую пыль, палеонтологи обнаруживают там ценные ископаемые организмы, археологи – ценные исторические памятники.
— А ещё в болотах депонируется ртуть, что ценно для биологов. С их точки зрения болота считаются рефугиумами — заповедниками стабильной экосистемы, где в неизменном виде могут сохраняться многие виды, рассказывающие нам об экологических нишах данных территорий.
— Понятно, что многие простейшие одноклеточные ещё неизвестны науке, и на этом пути вас ждёт не одно открытие. А могут ли существовать настолько крошечные организмы, что вы просто не сможете их увидеть с помощью своей техники?
— Оптически мы можем увидеть существа с самыми маленькими размерами с помощью электронных микроскопов. Трудности заключаются в другом — в том, что существенная часть неоткрытого разнообразия, которая может быть на порядки больше того, что мы знаем, представлена редкими видами, которые трудно обнаружить. Тут надо смотреть очень много проб, что зачастую человеку не под силу. Они, например, могут существовать в специфических условиях, и когда мы их оттуда извлекаем, они сразу погибают.
— Что вы чувствуете, когда видите в микроскоп новый организм, о существовании которого раньше никто не знал? Радость, удивление, умиление, охотничий азарт?
— Наверное, это эйфория и одновременно волнение. Хочется сразу понять, что это за простейшее и имеет ли оно какую-то эволюционную или практическую важность, досконально изучить, секвенировать ДНК. Когда видишь что-то новое, начинаешь листать литературу, искать сходство с чем-то уже известным. Так можно просидеть до ночи, а с утра пораньше опять спешишь на работу: как он там, не погиб ли? Это ни с чем не сравнимые ощущения.
— Не может ли здесь быть какой-то опасности, как в американском блокбастере «Живое», когда участники миссии на Марс разморозили микроорганизм, который стремительно эволюционировал и всех уничтожил?
— Мы нашли в Карском море микроорганизмы, родственные некоторым тяжёлым инфекционным агентам, обнаруженным ранее в Китае. С одной стороны, лучше их не трогать — пусть себе живут в воде и как можно реже контактируют с человеком. С другой стороны, рано или поздно настанет момент, когда нам всё равно придётся с ними столкнуться. Особенно это актуально сейчас, на фоне процессов глобального потепления. Так, наверное, лучше изучить их заранее, чтобы знать, к каким опасностям надо быть готовыми, и встречать их во всеоружии. Поэтому ответ — да, может быть опасно, но тем более надо всё это изучать и систематизировать.
15 сентября 2021
Статьи по теме:
